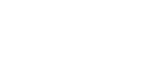В рамках театрального фестиваля «Пять вечеров на Кипре», прошедшего в конце марта в Российском центре культуры и науки (РЦНК) в Никосии, к нам приезжал 33-летний оперный режиссер Василий Бархатов. Его стремительная и успешная карьера поражает воображение. В 22 года Василий поставил свой первый спектакль в Мариинке, а в 26 лет срежиссировал праздник в честь дня России на Красной площади. Сегодня Бархатов — мировая звезда, его премьеры проходят на самых престижных театральных площадках Европы. В РЦНК состоялась творческая встреча, в ходе которой Василий искрометно ответил на все вопросы.
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С БАЛАЛАЙКИ
— Василий, а вы сами поете?
— Так, чтобы профессионально, на сцене? Нет! Я играю одним пальцем на пианино, а еще окончил музыкальную школу имени Дмитрия Шостаковича по классу балалайки. Кстати, музыкальное образование меня спасло. Когда мне посоветовали поступать в ГИТИС на оперную режиссуру, я честно сказал: «Знаете, я два раза был в опере — в Кремле и в Большом театре, и мне показалось, что никакой оперной режиссуры нет».
Помню, как на сцену выбегала Татьяна, такая же масштабная, как сам Кремлевский дворец съездов, задевала березку — и та минут 15 качалась из стороны в сторону, пока Татьяна пела: «Пуская погибну я, но прежде я в ослепительной надежде блаженство темное зову, я негу жизни узнаю». Мне сказали: «Ты не туда ходил. Сходи в «Геликон-Оперу», посмотри работы Дмитрия Бертмана».
В итоге я решил поступать. В ГИТИСе у нас преподавал потрясающий педагог, у которого были на VHS-кассетах все знаменитые спектакли европейских режиссеров того времени. У меня абсолютно сорвало голову, потому что я понял, что оперный театр может ничем не уступать драматическому, а те штампы и клише, которые сформировались у меня, как и у многих других, не имеют к этому жанру никакого отношения.
У меня нет красивой истории о том, как я в детстве мечтал стать оперным режиссером, передвигал фигурки Онегина и Татьяны по дивану. Ничего такого не было! Чудом с помощью всё того же педагога в Большой театр приехал знаменитый немецкий режиссер Петер Конвичный, и я посетил его лекцию. А через год назанимал денег у родственников, сам что-то заработал — и поехал к нему на стажировку в Берлин.
В течение нескольких дней я ходил во все театры Берлина, в какие только мог попасть — по студенческому билету, через окно, шел на криминал практически. Из Германии я вернулся воодушевленным — я уже понимал, что хочу делать, но пока не осознавал, как именно. Прозрение пришло ко мне примерно в середине третьего курса. После этого с оперным театром я уже не расставался.
ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
— Выживет ли опера в современном мире или станет анахронизмом?
— Это вопрос задают последние 100 лет. Оперу всё хоронят и хоронят, а она до сих пор жива, но проблемы, безусловно, имеются. В Европе публике сильно за 50, скорее даже — 60+. Все европейские театры по этому поводу переживают. На премьере «Онегина» [11 марта] в Висбадене мне казалось, что в фойе должна дежурить «Скорая», потому что до конца спектакля досидят не все.
Были времена, когда оперный исполнитель мог унести со сцены за вечер 100 тысяч долларов, а 50 тысяч было нормой для топового певца. Сейчас таких денег в оперном бизнесе просто не существует. Даже шикарный и супертехнологичный Зальцбургский театр — последний оплот больших денег в опере — вынужден прибегать к копродукции [совместному производству].
— А это правда, что в Большом театре ложи продаются порой по 10 тысяч долларов?
— Я не знаю, я не в доле. Перекупщиков никто не отменял. Надо понимать, что оперный театр по своей сути не окупается. Слишком много людей в нем задействовано. Слишком много денег вкладываются в спектакли — «отбить» их невозможно. Без государственных и спонсорских денег не обойтись. Я, например, когда еду на премьеру в Зальцбург, то покупаю билет за 200 с лишним евро. Жаба душит, конечно. Но иначе нельзя.
«ИНОГДА Я — МИСТЕР ГРИГОРЯН»
— Как вам живется с солисткой Мариинского театра?
— Очень вкусно готовит! Всё прекрасно. [Оперная певица] Асмик [Григорян] — классная мама и хозяйка.
— Это хорошо, что у вас творческий союз и вы каждый день можете обсуждать какие-то профессиональные вопросы?
— Мы — нормальные люди! Бывает, спорим из-за чего-то, но чтобы постоянно варились дома в профессии — такого нет! Хотя есть один очень смешной момент, из-за которого мы часто ругаемся. Жена ненавидит Моцарта, считает, что он был псих и извращенец, и это слышно в его музыке. Я считаю — да, но мне она нравится.
— Вы бы посоветовали людям создавать такие семьи?
— Это зависит от конкретных людей. Есть же профессиональная ревность. Нам легче, потому что мы с разных полян. Асмик поет в Венской опере, в Metropolitan, на Зальцбургском фестивале, в Парижской опере — она на Олимпе.
У нас есть английские друзья (глава семьи — актер и режиссер, у него много знаменитых фильмов), которые являются друзьями Мадонны и Гая Ричи. Так вот, на одних вечеринках Ричи говорит, что он — мистер Мадонна, а на других Мадонна является миссис Ричи. У нас то же самое: есть моменты, где я — мистер Григорян, а есть моменты, где Асмик — миссис Бархатова.
Я что еще хотел добавить? Режиссерская карьера развивается не так, как певческая. Когда жена перестанет петь, я буду улыбаться ей с вершины. Я шучу, конечно. У меня нет никакой творческой ревности по отношению к Асмик, а есть гордость и волнение за нее. Нам просто хорошо вместе.
«КАКОЙ-ТО РУССКИЙ МАЛЬЧИК»
— Что бы вам хотелось поставить? О чем мечтаете?— Мне пока везет. Мне удается реализовывать на сцене то, что я хочу, в том числе — довольно редкие произведения. Моим первым спектаклем был «Москва, Черемушки» в Мариинке, а следующим — опера «Енуфа» [чешского композитора Леоша] Яначека. В России она была поставлена во второй раз, впервые это случилось в Новосибирском театре оперы и балета в 70-х или 80-х.
Из соседней комнаты выходит 7-летняя дочь Василия Полина.
— Всё нормально? Ты как, держишься? — улыбается ей отец. — Я тоже.
Примерно такая же история была с одной из самых сложных опер XX века — «Солдатами» Бернда Алоиса Циммермана. Для ее исполнения нужен симфонический оркестр в полном составе, он не помещается ни в одну оркестровую яму мира, это всегда еще и все ложи. В прошлом году я поставил эту оперу [в висбаденском Großes Haus и Государственном театре Дармштадта]. Действительно, мне везет. В 2016-м я поставил в Базеле «Хованщину», а в 2018-м там же будет «Игрок».
Есть знаменитый немецкий композитор Ариберт Райман, автор шедевров «Король Лир» и «Медея». Он написал недавно оперу по трем пьесам [Мориса] Метерлинка, и я буду ее ставить — это будет мировая премьера в Deutsche Oper Berlin. Какой-то русский мальчик ставит произведение уважаемого европейского классика в главном государственном театре Германии. Это большая честь для меня и, конечно, ответственность.
— Как вы планируете развиваться дальше?
— Я буду ставить оперные спектакли, пожалуй.
— Вы советуете ходить на оперу или на режиссуру?
— Хороший вопрос. Правда, хороший. Надо понимать, куда вы идете. Иногда мне говорят: «Я пришел (пришла), а там такое!» Я отвечаю: «А что, сложно было проверить?» Если у какого-то режиссера в каждом спектакле отрезают голову главному герою, то всё очевидно — в новой постановке обязательно отрежут. И не надо потом говорить: «Господи, ему голову отрезали!» Вам же не приходит в голову выпить какое-то лекарство, чтобы посмотреть, как оно действует. Лучше прочитать аннотацию. Так же и в театре.
— Я никогда не бросаюсь на первую идею, которая приходит мне в голову. Как правило, я ее отметаю либо очень тщательно проверяю. Я не сторонник стихийного творчества. Я очень циничный человек в хорошем смысле этого слова. Джордж Бернард Шоу говорил, что «чувство объективного восприятия реальности люди, им не обладающие, часто называют цинизмом». Для меня цинизм — это взвешенность и объективность.
«Я ОТВЕЧАЮ ЗА КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ АРТИСТОВ»
— Каково ваше отношение к таким жанрам музыкального театра, как оперетта, водевиль, мюзикл?
— Я с уважением отношусь ко всем этим жанрам. У меня был опыт мюзикла, я ставил «Шербурские зонтики» [на сцене петербургского театра «Карамболь»]. Я сделал это ради мамы, это был ее любимый фильм, она его девять раз смотрела, убегала даже из школы. Мишелю Леграну понравилось, я был счастлив с ним познакомиться, мы с ним много общались, он называл «Шербурские зонтики» джазовой оперой.
Что касается оперетты, то я ставил в Большом театре «Летучую мышь» — и это был страшный скандал. На самом деле конфликтная ситуация была связана не столько со мной, сколько с огромным количеством людей, которые хотели сидеть в кресле директора Большого театра, поэтому меня вместе со спектаклем просто разменяли в этом противостоянии. Такое было время.
Есть две причины, по которым я могу что-то поставить. Первая — мне есть, что сказать, и я подыскиваю произведение, с помощью которого я могу это сделать. Вторая — мне очень нравится конкретное произведение, и я пытаюсь придумать, какие три копейки мог бы вложить либреттисту и композитору. Оперетта существует для развлечения, это нехитрый жанр. Я уважаю его мастеров, но мне лично он не очень интересен.
Кстати, я считаю, что «Летучая мышь» — это не оперетта, а опера. Но если мне хочется поставить «Летучую мышь», то не так уж важно, к какому жанру она относится. Если я не хочу ставить «Веселую вдову», то я не буду это делать, потому что такая история меня не задевает вообще ни разу. Все перечисленные вами жанры появились не сегодня и должны, на мой взгляд, существовать.
— Возникало ли у вас желание что-то сделать в балете?
— Сам никогда не хотел, но мне однажды поступило предложение найти хореографа и сделать балет об одной из самых знаменитых женщин XX века в качестве режиссера. Тут есть одна сложность — когда я ставлю спектакль, я отвечаю за каждое движение артистов. Они двигаются так, как я показал или попросил, либо мы вместе утвердили на основе их предложений. Если у меня есть танцы, то я прошу приглашенного хореографа поставить их, как мне надо. Если же я ставлю балет, то получается, что работаю через переводчика.
ВООБРАЖАЕМЫЙ КИПР
— На открытии фестиваля вы сказали, что у вас была постановка о Кипре или как-то с ним связанная. У вас появилась какая-то новая идея в этом направлении? Станем ли мы первыми зрителями вашего спектакля на Кипре?
— Я имел в виду «Отелло», который был поставлен мною в Мариинском театре. Все знают, что действие происходит на Кипре. Вернее, действие трагедии Уильяма Шекспира начинается в Венеции, однако опера — от шторма вплоть до хорошо вам известной печальной развязки — целиком связана с Кипром. Это был единственный раз, когда я был в своем воображаемом Кипре…
— На каких языках вы говорите, когда ставите свои спектакли в Европе?
— На английском. Если взять в качестве примера мартовскую премьеру «Евгения Онегина» в Висбадене, то там был только один человек, который знает русский язык, — это литовская армянка Асмик Григорян. Онегин — американец, Ленский — бельгиец, Татьяна — итальянка, Ольга — немка, Филипьевна — голландка.
— На вас повешено довольно много ярлыков: от выскочки до юного гения. Как вы к этому относитесь?
— Я не могу контролировать уровень пошлости русской журналистики. О юном гении писали, когда мне было 22 года. Сейчас уже 33, и когда так объявляют, мне даже неудобно. Когда перевалит за 100 и я наконец-то умру, на могилке, видимо, напишут то же самое.
Я совсем неконфликтный человек, это какая-то крайность должна быть. А еще я очень хитрый. Если я знаю, что попрошу человека что-то сделать на сцене, а он этого никогда не сделает, то «подтолкну» его к тому, чтобы он сам это «придумал». Я скажу: «Потрясающе! Давайте так и оставим! Вы спасли мне спектакль!»
Штрихи
- На ТВ Бархатов запомнился проектами «Призрак оперы» и Yesterday Live. Он делал новогодние «Оливье-шоу», где командовал самим Стингом. «В телевизоре у меня гостевая виза, а не рабочая. Я театральный человек», — уточняет режиссер.
- «Я до сих пор ловлю на себе недоверчивые взгляды на первых читках и репетициях. Это вполне объяснимо, — улыбается Василий, — я заставляю огромное количество людей делать то, что мне хочется. По 6-7 часов в день. Кому из взрослых такое понравится? Каждый раз надо доказывать, что ты не дурак».
- «Хороший спектакль мы можем отметить в ресторане, а можем выпить на бульваре, закусывая чипсами. И меня это не смущает. Никакой звездной болезни или понтов», — уверен лауреат премий «Прорыв» и «Золотой софит».
- Своей самой большой ошибкой в жизни Бархатов считает то, что он стал слишком известен: «Хотелось быть оперным режиссером, которого никто не знает. И быть уважаемым в узком кругу. Публичная известность мне не нужна. Я стараюсь всем уделить время, которого и так очень мало».
- «Пять лет назад мы составляли письма в разные министерства с просьбой о поддержке и столкнулись с удивительным стереотипом — опера в России начинается с Глинки и заканчивается Шостаковичем и Прокофьевым. Всё. Дальше оперы нет! Я даже не говорю о Курляндском и Невском. Нет Щедрина, Десятникова, Шнитке, Слонимского, Тищенко», — удивляется Василий.
- «Кто-то из чиновников сказал, что на сцене много чернухи, нужно ставить светлые патриотические спектакли. Равняйтесь, говорит, на классиков. Интересно, у кого бы поучиться позитиву и отсутствию социальной и политической остроты? У Достоевского, Пушкина? Гоголя? Горького? Толстого? Мейерхольда? Одно то, что мы работаем и живем в России, — и есть патриотизм», — убежден Бархатов.
На фото — Василий Бархатов с супругой Асмик Григорян (фото ТАСС)